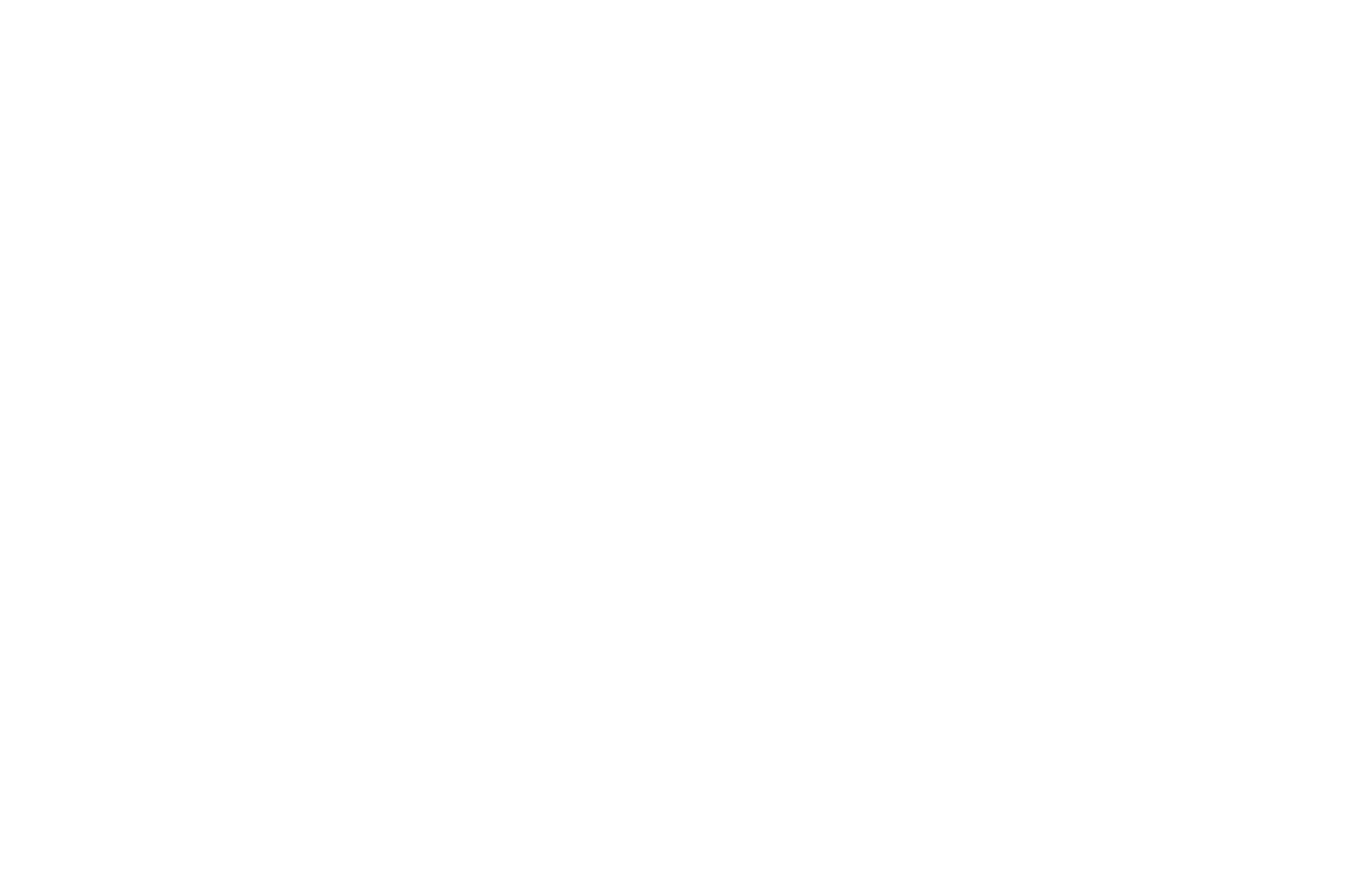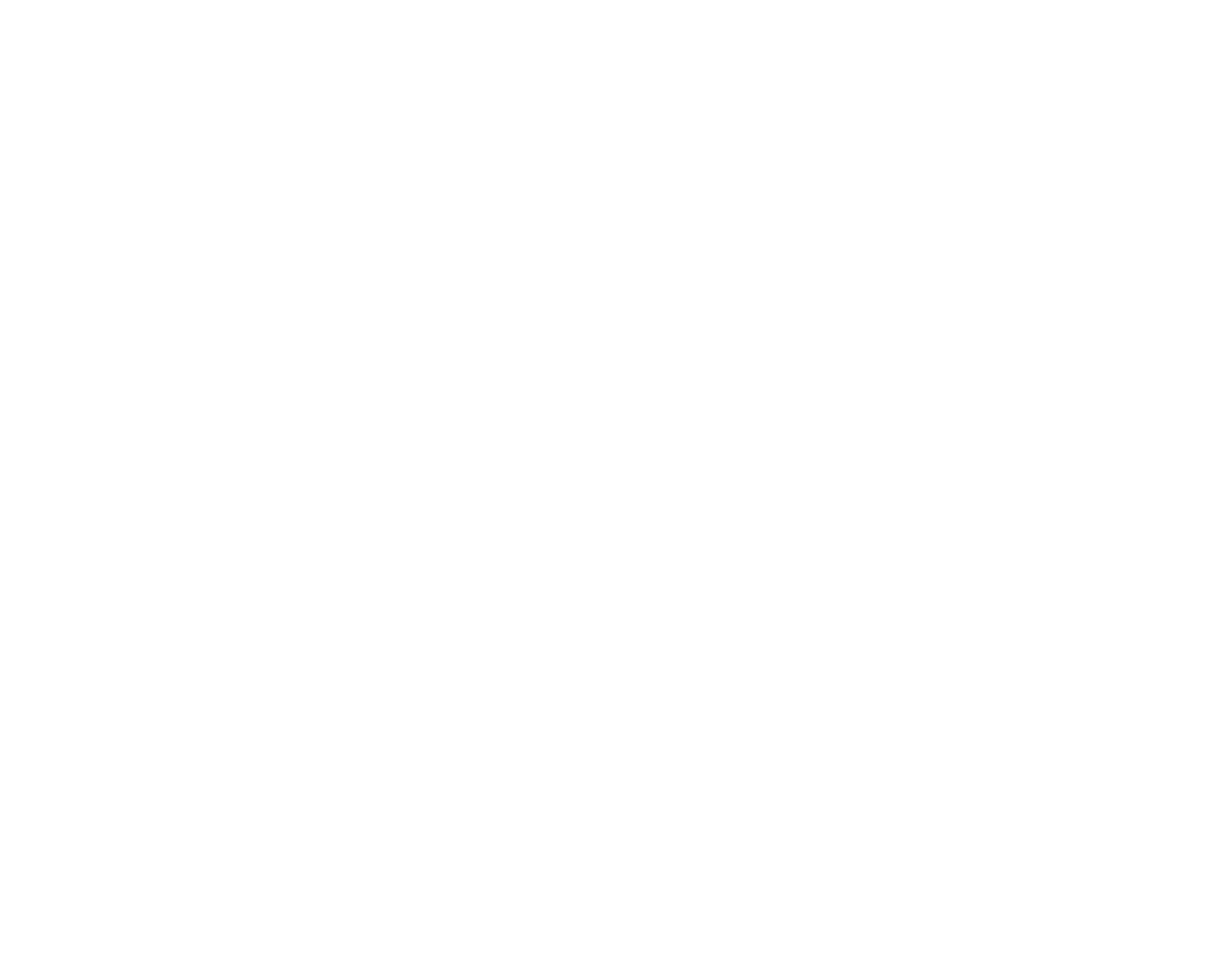нарратив что это такое в психологии
Нарративный подход.
Стать автором своей истории
Рассказываем про нарративную психотерапию, которая помогает переписывать и переформулировать целые жизни.
Что такое нарративный подход?
Нарративная терапия — метод, который позволяет отделить человека от его проблемы и выработать альтернативный взгляд на события, происходящие с ним.
Наши переживания становятся нашими историями. Мы придаем этим историям смысл, высоко ценим их, со временем они становятся частью нашей идентичности. Нарративная терапия использует силу историй, чтобы помочь людям сформулировать их истинные цели и ценности. При этом человек начинает чувствовать себя «рассказчиком», автором собственной жизни.
Авторство нарративной терапии принадлежит Майклу Уайту и Дэвиду Эпстону, специалистам из Австралии и Новой Зеландии. Уайт занимался социальной работой и каждый день видел все те сложности социального характера, с которыми сталкиваются угнетенные группы. Его мысли занимало желание создать систему, которая поможет работать с целыми сообществами людей, угнетенных или испытывающих страдание. долго думал над тем, как им помочь. Встретив единомышленника в лице Эпстона, также талантливого молодого терапевта и ученого из Новой Зеландии. В конце 1970-х они были пионерами, продвигавшими системно-семейный подход в Австралии и Новой Зеландии. При этом они разрабатывали собственные идеи для будущего нового подхода.
Первая книга авторства Уайта и Эпстона Narrative Means to Therapeutic Ends, излагавшая основы нового нарративного подхода, вышла в 1990 году. В течение следующих 10 лет нарративная терапия завоевала популярность по всему миру – в том числе и благодаря запуску веб-сайта Narrative Approaches, который информировал о подходе людей по всему миру. Мировым центром нарративной терапии считается The Dulwich Centre в Австралии, основанный Уайтом.
«Истоки нарративного подхода — в системной семейной терапии. Но она в большей степени ориентирована на процессы, происходящие внутри семьи. Уайт же вышел за границы семьи, стал смотреть на человека, как на элемент большой системы, всего общества, с которым он постоянно взаимодействует. Многие его идеи опираются на философию Мишеля Фуко – например, представления о роли власти в формировании мышления человека. В последние годы он изучал труды нашего отечественного психолога Льва Выготского, часть его теорий была привнесена в практику нарративного подхода.
Нарративная практика не представляется чем-то абстрактным, она имеет большую теоретическую базу, основана на психологических трудах и философских идеях. При этом Уайт и Эпстон сразу проверяли на практике те методы, которые разрабатывали.
Сегодня у представителей нарративного подхода нет официальной международной ассоциации, и все же специалисты по всему миру уделяют большое внимание общению в профессиональном сообществе, которое помогает развивать метод. Формирование сообществ является одной из его ключевых ценностей».
Одним из ключевых элементов нарративной методики является практика пересочинения: поиск уникального эпизода и создание предпочитаемой истории.
Наша идентичность выстраивается из историй, которые мы о себе рассказываем. Благодаря им мы понимаем, кто мы такие. Чтобы создать историю, мы должны осмыслить и описать конкретные события в нашей жизни. Те же самые события можно описать и другим образом. Например, в сказке про Красную Шапочку мы можем представить, что Красная Шапочка злая, а Волк – ее жертва. Мы можем сделать это, опираясь на те же самые факты.
«Когда человек приходит с проблемной историей, все его события подчинены какой-то логике, смыслу, который является для него некомфортным. Возьмем девушку, она рассказывает: у меня затяжные проблемные отношения с мужчиной, они меня фрустрируют, ничего не получается, все плохо. Переписывая эту историю в процессе терапии, мы находим альтернативное, или предпочитаемое видение.
Например, история с молодым человеком — история не о крахе отношений и беспомощности, а о девушке, для которой важны близкие отношения и чувства, которая была готова инвестировать в них, бросать вызов проблемам. Это помогает поверить, что в будущем человек сможет реализовать то, что не удалось в силу разных обстоятельств сделать в прошлом. Это и есть предпочитаемая история.
Первым шагом к тому, чтобы сформулировать предпочитаемую историю, является поиск уникального эпизода. Уникальный эпизод – очевидный момент, который не вписывается в проблемную историю. Например, девушка вспоминает момент, когда она стала инициатором консультации у семейного терапевта, привела молодого человека к психологу вместо того, чтобы ввязываться с ним в ссору, а потом плакать по ночам. Она заняла активную позицию, решила что-то изменить.
Девушка переформулирует историю. Она понимает, что оставалась в отношениях не из-за собственной слабости, а потому, что это было ее ценностью – выстроить счастливую жизнь с любимым человеком.
Когда мы добираемся до уровня ценностей и до того, что человек делает исходя из этих ценностей, создается новая история. История о том, как он преодолевает проблему, и о том, что он может делать дальше, чтобы жить в соответствии со своими ценностями».
Как и в большинстве терапевтических подходов, примерный план появляется после первой сессии, когда выясняется запрос клиента. Нарративная терапия считается не очень длительной, для многих проблем хватает 10-20 сеансов.
Человек рассказывает о себе, о проблеме. Задачей является понять, что именно ему некомфортно и что он хочет изменить, затем отделить проблему от личности. Проблемой может быть идея, представление или симптом, недомогание. Дальше происходит изучение проблемы: как она влияет на человека, как человек влияет на нее, как он относится к происходящему.
«Подход уделяет большое внимание проблеме власти: власти мнений, взглядов, доминирующих представлений, которые существуют в обществе. Большую работу он проводит с меньшинствами и маргинализируемыми сообществами, к примеру, ЛГБТ+. Доминирующие идеи очень мешают им жить. Они запирают их от собственной идентичности. Люди хотят определять себя определенным образом, но не могут, у них возникает внутренний конфликт в связи с тем, что это осуждается.
Тут видна диспропорция власти мнений: она принадлежит большинству, все мы находимся под влиянием сильных идей большинства. Те же представления можно найти в теме красоты. Много работы происходит с женщинами, многое связано с идеями феминизма. Подход сам по себе новый, поэтому он впитал в себя все актуальные социальные контексты».
«У метода нет ограничений по тому, с какими запросами работать. Мы работаем со всем, кроме большой психиатрии. В сложных случаях – совместно с врачом и при поддерживающей медикаментозной терапии. Нарративная терапия в значительной степени направлена на работу со смыслами и ценностями, будучи когнитивной дисциплиной, и в меньшей – на эмоции.
Человек приходит в эмоционально сфокусированные подходы (такие как гештальт или психодрама), чтобы прожить эмоции, которые на него давят. В нарративном же подходе нужно разбираться в установках, в массиве установок, идей и представлений, которые влияют на клиента. Нужно вычленять ценности и быть готовым говорить о них. Подобная работа доступна практически всем, вопрос в намерении. Если хочется выразить свои эмоции, лучше идти к гештальт-терапевту. Если хочется говорить про детство и услышать интерпретации – это психоанализ. Если же они готовы заниматься раскруткой идей и прочей работой ума – то стоит идти к нарративному терапевту».
По итогу курса нарративной терапии человек удостоверяется в том, что он способен иметь дело со своей жизнью, управлять ей. Он не является заложником проблем, а руководит их разрешением. Он начинает с вниманием относиться к тому, что приходит в информационном поле, к идеям, которые на него влияют, лучше понимает мотивы собственных поступков и соотносит их со своими ценностями.
Безусловно, основной задачей каждого курса является реализация запроса, сформулированного на первой сессии. Что делать после окончания университета? Как строить отношения? Терапевт и клиент находят необходимые ответы благодаря обновленному нарративу. Если основной запрос клиента — высокая тревожность или сниженное настроение, основным (но не единственным) результатом будет избавление или значительное уменьшение частоты и интенсивности этих симптомов.
«Девушка 25 лет обратилась с высокой тревожностью, страхом смерти, агорафобией и неуверенностью в себе. На первой встрече клиентка рассказала, что в возрасте 17 лет она потеряла дедушку, и через некоторое время после этого у нее появились страхи. Сейчас она живет с родителями, окончила университет и работает по специальности. Работа ей нравится, но она сильно устает. К 25 годам у нее не было длительных отношений, из-за этого она чувствует себя неуверенно. Она задает себе вопросы: «что со мной не так?», «способна ли я на серьезные отношения?». Она тревожится за жизнь близких (особенно когда кто-то долго не отвечает по телефону, едет за рулем долгое время), боится ездить в общественном транспорте и большом скоплении людей (дискомфорт, учащенное сердцебиение, мысли о том, что может случиться теракт).
На первой встрече клиентка сформулировала свои запросы: избавиться от высокой тревожности, страха смерти, стать более уверенной в себе и готовой к отношениям.
На второй встрече состоялась беседа о страхе смерти и потере дедушки. Благодаря технике re-membering стало понятно, что дедушка занимал значимое место в жизни клиентки, давал ей много любви, хвалил и делал комплименты. Рядом с ним она чувствовала себя уверенно, и его поддержка очень помогала ей. Она же дарила ему много радости и уважения. Эти отношения помогли ей стать той, кто она есть, выбрать специальность, понять ценность семьи и доверия в отношениях, научиться справляться с трудностями.
После разговора о дедушке клиентка восстановила контакт с этим опытом отношений и на неделе чувствовала себя лучше. Тревога немного уменьшилась. В следующие несколько встреч мы исследовали влияние тревоги на жизнь клиентки и то, как она противостоит ей (экстернализация). Оказывается, тревога приходит, когда клиентка ощущает себя счастливой и радуется жизни. Тревога как бы предупреждает: «все не вечно, будь осторожна!». В ответ клиентка может сказать ей: «Да, ты права это все не вечно, но если я не буду радоваться жизни, то и не смогу ее ощутить во всей полноте. То, что ты приходишь, говорит о том, что для меня важна мои жизнь и мои близкие, но тебя слишком много». К этому разговору она может пригласить ту детскую часть себя, которая ощущала себя хорошо и безопасно, которая могла находиться в моменте. Сближаясь с этой частью клиентке становится спокойнее.
После проработки взаимоотношений с тревогой состояние клиентки значительно улучшилось. В те моменты, когда тревога все-таки приходила, ей удавалось быстро от нее избавиться. Однако осталась неразрешенной другая часть запроса – отношения.
Оказалось, что на клиентку влияет много различных идей про отношения. «К 25 уже должен быть опыт длительных отношений», «после 30 ты уже никому не будешь интересна, мужчинам нравятся молодые», «женщина без мужчины считается неполноценной». Проанализировав, как влияют эти идеи на жизнь клиентки (деконструкция) и подходит ли ей это влияние, она выяснила, что не разделяет эти убеждения. Ей не нравится то, что они заставляют чувствовать себя неуверенно. По ее словам, эти идеи были выгодны патриархальному обществу, они помогали ему поддерживать господствовавший сотнями лет уклад. Сейчас они отходят на задний план. Клиентка решила, что сейчас будет отдавать свое время и энергию профессии и карьерному росту, поскольку ей важно уверенно стоять на ногах, реализовать себя и заводить семью, будучи зрелым и самостоятельным человеком. Ее определенно поддержал бы в этом ее дедушка. Он всегда подкреплял ее уверенность в себе и правильность ее жизненных выборов.
За 12 встреч нам удалось ослабить влияние тревоги на жизнь клиентки, она научилась вступать с ней в диалог, использовать мыслительные и поведенческие техники работы с ней. Клиентка стала больше радоваться. Ей удалось почувствовать себя более уверенно в сфере отношений, завести аккаунт в тиндере, начать ходить на свидания. Она нашла поддержку в лице подруги, которая тоже была без партнера. Вместе девушки стали больше выбираться в люди, вести активную социальную жизнь. Она часто вспоминает дедушку, представляет, чтобы он ей сказал в той или иной ситуации. При этом ее наполняют теплые чувства с нотой грусти. Иногда она начинает волноваться, когда папа долго не берет трубку, но быстро понимает, что бывают разные ситуации, и он может быть просто занят».
Нарратив что это такое в психологии
English version: Turusheva Yu.B. Features of the narrative approach as a method of studying identity
Психологический институт Российской академии образования, Москва, Россия
Обсуждается трансформация моделей идентичности, связанная с так называемым лингвистическим поворотом. Дискурсивная, фрагментарная, подвижная идентичность периода постмодернизма требует новых методов изучения, которые находятся в стадии становления. Особое внимание уделяется особенностям нарративного подхода, позволяющим считать его одним из приоритетных направлений для изучения современных моделей идентичности.
Ключевые слова: идентичность, нарратив, дискурс, нарративная идентичность, нарративный подход, социальный конструкционизм
В рамках истории человечества проблема идентичности приобрела актуальность относительно недавно. На ранних этапах развития, когда человек еще не выделялся из своего рода, эта проблема не существовала, поскольку не возникала потребность в самоидентификации. Позже, на протяжении достаточно долгого периода в обществах были сформированы ясные картины мира, которые обеспечивали человеку его идентичность: он понимал, кем является, каковы его обязанности, каково его жизненное предназначение. По мнению Ч.Тейлора [Taylor, 1989], понятие «идентичность» было немыслимо вплоть до 16-го века. Сегодня это одно из ключевых понятий не только для психологии, но и для целого ряда других гуманитарных дисциплин.
Ранние представления об идентичности (начиная с эпохи Возрождения и вплоть до позднего Просвещения), достигшие кульминации благодаря Локку и Декарту, опирались на представления о существовании «суверенного субъекта», независимого от внешних влияний. Вера в то, что Я творится в результате накопления и осмысления опыта, декартовский дуализм души и тела подготовили почву для той концепции идентичности, которая остается для обыденного сознания во многом актуальной и по сей день: Я как независимая, внутренняя, созидающая и познающая сущность.
В период Романтизма представления об идентичности были дополнены осознанием важности реализации своих природных устремлений и чувства ответственности за свою судьбу. Развитие этой линии можно проследить в концепциях самореализации, «подлинного Я», Я как автопроекта.
В начале 20-го века серьезное влияние на представления об идентичности оказали работы З.Фрейда. Несмотря на то что психоанализ делал акцент на внутренней работе бессознательного, значительное внимание уделялось вопросам социализации и влияния семьи на представления о себе. Развитие этой линии прослеживается в работах Ж.Лакана, который отнес осознание собственной идентичности к дискурсивной сфере. Ж.Лакан предположил, что ключевым этапом социализации ребенка является овладение им системой дискурса («символическим порядком»). Другой значимой идей Ж.Лакана было то, что бессознательное структурировано как язык, что оно появляется как результат воздействия речи на субъекта. Таким образом, в 20-м веке впервые были обозначены связи между становлением идентичности и языком.
Над природой и загадками языка наука размышляла давно, но именно в 20-м веке язык был осмыслен не просто как «орудие мысли» и средство коммуникации, но как самостоятельная реальность, которая активно формирует и самого человека, и его мир. Обращение к языку, возможно, стало причиной того, что наука заинтересовалась интерсубъективной природой идентичности. То, что индивидуальное сознание не существует изолированно, хорошо понимали социология и социальная психология. Во второй половине 20-го века большинство теорий определяло идентичность через принадлежность к социальной группе. Такие теории остаются наиболее влиятельными и в современной социальной психологии, экономике, социолингвистике. Например, теория социальной идентичности А.Тэшфела, в рамках которой социальная идентичность (в отличие от личностной идентичности) определяется через идентификацию с группой. Причем осознание своей принадлежности к группе осуществляется за счет сложных, многоступенчатых когнитивных процессов. Критика теории А.Тэшфела связана с отношением к идентичности как к исключительно когнитивному, до-дискурсивному феномену [Bethan, Stokoe, 2006]. В последние годы идентичность все чаще рассматривается с точки зрения социальных практик (в т.ч. дискурсивных), в которых принимает участие человек, а не членства в группе.
К концу 20-го века возникла тенденция рассматривать идентичность как социокультурный и культурно-исторический продукт дискурса. Благодаря М.Фуко идентичность стала рассматриваться как продукт доминирующих дискурсов, связанных с социальными механизмами и практиками. Этот тип модели идентичности предполагает анти-эссенцианалистский подход, поскольку все смыслы находятся не внутри, а вовне – в знаковых системах, таких как язык. Принципиальным при этом является рассмотрение идентичности в терминах «децентрации», «множественности», «фрагментарности». Неустойчивая, флуктуирующая идентичность создается посредством огромного количества противоречащих друг другу текстов, которые не могут обеспечить ей последовательность и стабильность. Подобные модели вызвали массу критики, так как полностью исключают активность субъекта.
Свою позицию в отношении природы Я последовательно проводит Ром Харре (см., например, [Harre, 2001; Harré, Gillett, 1994]) который считает, что Я имеет дискурсивную природу и является продуктом различных коммуникативных практик. Харре считает, что существование «внутреннего Я» (в его теории предполагается наличие «внешнего Я» и «внутреннего Я», что очень близко к классическому кантовскому разделению эмпирического и трансцендентального субъекта) ограничено историческими рамками и характерно для «западноевропейской культуры саморефлексии и культивации «внутреннего мира» [Лекторский, 2009, с. 35] нескольких последних столетий. По его мнению, «внутреннее Я» отсутствует в ряде незападных культур. Такие антикартезианские взгляды являются частью более широкого постпозитивистского движения и связаны со сдвигами в гуманитарных науках, которые получили называния «дискурсивный поворот», «культурный поворот», «постструктуралистский поворот».
Даже поверхностный взгляд на историю развития понятия «идентичность» позволяет заметить, что различные модели идентичности продолжают существовать и в современной науке, и тем более в обыденном сознании. Многие из них вступают в противоречие. Однако сегодня уже никто не может отрицать, что идентичность не просто отражается в дискурсе, но активно в нем конструируется. «Личность… – это не какая-то неизменная структура, а непрестанный процесс… Личность имеет социальное происхождение. Ее формирует диалог»[Гофман, 2000, с. 10]. При этом многие аспекты остаются не проясненными: от проблем исследовательской практики (см., например, [Андреева, 2012]) до философских проблем, касающихся вопросов природы субъектности и власти языка.
20-й век предложил человеку огромное количество возможных идентификаций, социальных ролей, широчайший выбор ценностных ориентаций. Структура идентичности стала как никогда ранее сложной, противоречивой, появилась проблема удержания и согласования многочисленных Я-образов в представлениях человека о самом себе. Американский психиатр Р.Дж.Лифтон (Lifton R.J)даже предложил ввести понятие «протеевской» идентичности (protean Self). Как древнегреческий Протей – символ бесконечных превращений – так и современный человек вынужден постоянно меняться, будучи не способен сохранить стабильную идентичность[Lifton, 1993]. Идентичность периода постмодернизма характеризуется как фрагментарная, подвижная, флуктуирующая. В то же время большое значение придается индивидуальным стратегиям поддержания ощущения цельности и единства Я в нестабильном мире.
В этой ситуации изучение идентичности сталкивается с огромным количеством методологических проблем. Прежние, хорошо зарекомендовавшие себя в классической психологии методы вызывают массу критики, так как предполагают модель идентичности как самоопределения в терминах психологических черт (см., например, [Барский, 2008]), в то время как становятся востребованы модели, в которых «личностная идентичность не является характерной чертой или набором черт, которыми обладает индивидуум. Она представляет собой самость, рефлексивно понимаемую индивидом в терминах ее или его биографии» [Giddens, 1991]. Новая методология, позволяющая изучать дискурсивную, неустойчивую во времени и осуществляемую в интеракциях идентичность, находится в стадии становления и, следовательно, имеет массу непроработанных областей (включая отсутствие стандартизированных методов исследования).
Идеи определяющей роли языка и социальных интеракций в формировании наших представлений о мире и о самих себе взял на вооружение социальный конструкционизм – движение, приобретающее в последние годы все большую популярность, теоретической основой которого стала работа Т.Бергера и П.Лукмана «Социальное конструирование реальности» [Бергер, Лукман, 1995]. Внимание социального конструкционизма сосредоточено на тех (прежде всего языковых) процессах, посредством которых люди описывают, интерпретируют, делают для себя понятными самих себя и мир, в котором они живут. «Его исходным пунктом служит радикальное сомнение в том, что окружающий мир (как обыденный, так и научный) есть нечто, разумеющееся само собой» [Джерджен, 1995, с. 53].
Большинство психологических понятий предлагается рассматривать не как объективные психологические состояния, а как исторически обусловленные, социальные по природе проявления, в контексте их лингвистического использования: «Термины, в которых происходит осмысление мира, есть социальные артефакты, продукты исторически обусловленного взаимообмена между людьми. С точки зрения конструкционизма осмысление мира – это не автоматический или природный процесс, понимание мира есть результат активной совместной деятельности людей, вступающих во взаимные отношения» [Там же. С. 56]. Надо отметить, что значительное влияние на социальный конструкционизм оказали идеи Л.С.Выготского, согласно которым высшие психические функции (в т.ч. сознание и структура Я) обусловлены культурно-исторически и возникают в процессе коммуникации и совместной деятельности: «Личность становится для себя тем, что она есть в себе, через то, что она представляет собой для других» [Выготский, 1960, с. 196].
Социальный конструкционизм пытается отказаться от традиционного субъект-объектного дуализма. Под сомнение ставится и теория знания как ментального представления. Такие тенденции существенно повлияли на модель идентичности: она помещается в сферу социального дискурса и оказывается совместно конструируемой. При этом конструкционисты отказываются от большинства классических понятий психологии, многие из которых ранее понимались как личностные черты, точнее перестают их считать до-дискурсивной данностью.
В поисках новых методов, позволяющих изучать идентичность, ряд психологов, разделяющих взгляды социального конструкционизма, обратился к изучению нарративов. И прежде всего Я-нарративов, то есть историй, рассказанных от первого лица, повествующих о перипетиях собственной жизни. «…Человек организует свою идентичность посредством нарратива, представляющего собой «личный миф», который складывается в подростковом возрасте и пересматривается всю последующую жизнь» [Барский, 2008, с. 98]. Именно такая жизненная история, по мнению многих ученых, придает ощущение целостности нашим жизням, конструирует Я – центр, удерживающий личный опыт, создает преемственность, связность Я во времени. Более того, некоторые ученые считают, что такая сложная и неустойчивая конструкция, как человеческая идентичность – Я-во-времени, – может существовать только как нарратив.
Изучение нарратива признают актуальным не только психологи, но и социологи, философы, культурологи, антропологи, историки. Все они (с позиций своих дисциплин) видят в нарративе чрезвычайно важный для человека способ транслировать опыт, понимать мир и, в конце концов, самих себя: «Отправной точкой нового интереса к нарративу в гуманитарных науках является, по-видимому, «открытие» в 1980-х гг. того, что повествовательная форма – и устная, и письменная – составляет фундаментальную психологическую, лингвистическую, культурологическую и философскую основу наших попыток прийти к соглашению с природой и условиями существования» [Брокмайер, Харре, 2000, с. 30]. Очевидно, что нарративы активно участвуют в организации опыта, формировании интенций, структурировании памяти и общении.
Многие ученые считают, что обращение к нарративу как организующему концепту в гуманитарных науках является классическим парадигмальным сдвигом, который обеспечивает переход от номологической объяснительной модели к культурно-историческому видению человека. Причины такого поворота, конечно, лежат не только в области эпистемологии, но и в общекультурных сдвигах. Продолжая развитие постпозитивистского метода в науке, нарративный подход открывает «новые горизонты для интерпретативных исследований, фокусирующихся на социальных, дискурсивных и культурных формах, противостоящих бесплодным поискам законов человеческого поведения» [Брокмайер, Харре, 2000, c. 29]. Ключевой вопрос для психологии – как посредством нарратива мы создаем то, что называем своей жизнью. Вопрос о способе конструирования неотделим от вопроса о том, какой тип идентичности формируется в этом процессе.
Нарратология возникла в 60–70 гг. 20-го века как один из структуралистских методов изучения письменных нарративных, преимущественно художественных текстов. Структуралистская нарратология мыслила нарратив как своего рода «соссюровскую речь» – систему инвариантных форм и правил, эффективно использующихся в конкретных культурных контекстах. Ее основной задачей была формулировка того, что лежит за «поверхностью» повествования, – поиск «глубинных структур», «универсальных грамматик».
В рамках нарратологии было осуществлено огромное количество попыток определить понятие «нарратив» и отличить его от других видов дискурса, прежде всего, через структурные особенности. Пионером изучения нарративных структур считается В.Пропп [Пропп, 1969], который, проанализировав «морфологию» русской народной сказки, пришел к выводу, что все известные сюжеты содержат некоторый набор определенных элементов.
Психолог Дж.Брунер (Bruner J.), опираясь на работу Кеннета Берка «Грамматика мотивов», предложил список из пяти элементов, составляющих структуру нарратива: действующее лицо (Agent), действие (Action), обстановка (Setting), средства (Instrument), цель (Goal) – и Трудность (Trouble). При этом «трудность» понимается как то, что движет драмой; она возникает при конфликте между двумя или более элементами пентады [Брунер, 2005].
Э.Окс и Л.Капс (Ochs E., Capps L.) предлагают еще один список элементов повествования: обстановка (информация о времени, месте нахождения), неожиданное событие (что-то непредвиденное или проблематичное), психологические / физические реакции (изменения в эмоциональном или психологическом состоянии), незапланированные действия (непреднамеренное и нецеленаправленное поведение), попытка (поведение, инициирующее попытку решить проблемную ситуацию) и последствия (последствия психологического или физиологического отклика) [Bethan, Stokoe, 2006].
Классической работой по определению компонентов повествования является исследование Лабова и Валецки [Labov, Waletzky, 1967]. Лабов утверждал, что полностью сформированный нарратив содержит шесть элементов: тезис (краткое изложение, резюме нарратива), ориентацию (время, место, ситуация, действующие лица), последовательность событий, оценку (значимость и смысл действия, отношение рассказчика к этому действию), резолюцию (что случалось в конце концов) и коду (в которой рассказчик возвращается в настоящее время).
Одна из проблем структурного определения нарратива состоит в том, что многие повествования не вписываются в предложенные схемы: некоторых компонентов может не быть, они могут находиться в другой последовательности, к тому же существует опасность «подгонки» под схему, которая является к тому же этноцентричной. Несмотря на то что компоненты Лабова можно встретить в большинстве повествований, Й.Брокмайер (Brockmeier J.) и Д.Карбо (Carbaugh D.) утверждают, что ему не удалось по структуралистским меркам дать универсальное определение нарратива [Bethan, Stokoe, 2006].
Другая проблема состоит в том, что структуралисты изучают вырванный из широкого контекста нарратив, а не «реальные, живые» повествования в интеракциях. Так, например, почти не учитывается влияние, которое на рассказчика оказывает интервьюер. Надо отметить, что социальные дисциплины используют определения нарратива, данные, в основном, в рамках нарратологии, то есть литературоведческой дисциплины. Эти определения не улавливают специфики феномена, которая интересует, в частности, психологию. В связи с этим неоднократно поднимался вопрос о необходимости переопределения нарратива в терминах психологической науки. Некоторые психологи считают, что форма и структура повествования являются менее значимыми факторами, чем способность нарратива улавливать интенции человеческих действий и придавать им смысл [Schiff, 2006].
Дальнейшее развитие нарративных исследований шло по пути постепенного отказа от структуралистских установок. Так, Мике Баль [Bal, 1997] утверждает, что рассматривает нарратологию как эвристический инструмент, который может и должен использоваться в сочетании с другими концепциями и теориями. Ее нарратология предстает как постструктуралистский проект. Она настаивает (вместе с М.Бахтиным) на многоголосной природе и (вместе с Ж.Деррида) на неприводимо неоднозначном смысле любого нарративного высказывания. В результате инвариантные формы уступают место разнообразным структурам нарративных текстов в их культурных контекстах. Нарративный анализ у М.Баль превращается в культурный анализ, в форму интерпретации культуры.
Значительное влияние на трансформацию представлений о нарративе оказал М.М.Бахтин. Идея полифонической природы нарратива, разработанная Бахтиным при анализе романов Достоевского [Бахтин, 1994], привела к новым концепциям «многоголосного» разума и «диалогического» Я (см., например, [Hermans, 2012]). М.Бахтин настаивал на том, что к человеку нельзя применить формулу тождества: «А есть А», подлинная жизнь личности, подлинное Я возникает как раз в точке несовпадения человека с самим собой. Именно роман (а роман является частным случаем нарратива) благодаря этой специфике оказывается, по Бахтину, наиболее адекватным жанром для выражения человеческой «незавершенности». Безусловно, идеи Бахтина выходят за рамки теории литературы: «Представления Бахтина о нарративном дискурсе предполагают взгляд на человека как на постоянно создающего себя, как способного опровергнуть любой окончательный вариант идентичности» [Brockmeier, Carbaugh, 2001, p. 8].
В рамках нарративного подхода существует множество различных направлений. Они различаются и теоретическими основаниями, и способами сбора данных, и, конечно, методами анализа. Далеко не все ветви нарративного анализа относятся к социальному конструкционизму и разделяют его убеждения. Например, Холвей и Джефферсон [Hollway, Jefferson, 2005] работают в традициях психоанализа, предполагая за нарративным текстом работу бессознательного, которую исследователь должен разглядеть и интерпретировать.
С нарративом работает конверсационный анализ и дискурсивная психология, интересующиеся не нарративом «самим по себе», а широким дискурсивным контекстом, в котором находится нарратив. К нарративному подходу относит себя теория позиционирования Р.Харре [Harre, 1999], изучающая способы, которыми рассказчик во взаимодействии с аудиторией занимает субъектную позицию. Как отметила К.Риссман, «исследователи могут в конце концов утонуть в море транскриптов, потому что почти ничего не говорится о том, как анализировать повествования» [Цит. по: Bethan, Stokoe, 2006]. Можно сказать, что в широком смысле «нарративный анализ» выполняет сегодня роль интерпретативного инструмента, предназначенного для изучения жизни людей, через истории, которые они рассказывают.
Несмотря на то что в нарративной психологии нет ни одной четко выраженной школы, большинство существующих в рамках направления подходов отказывается от традиционного позитивистского понимания Я академической психологией. В соответствии с установкой социального конструкционизма Я понимается как обусловленное культурно-исторически и возникающее в процессе осуществления различных коммуникативных практик, в том числе нарративных. В отличие от радикального конструктивизма нарративный подход не отрицает существования реальности и не объявляет ее продуктом, возникающим в процессе конструирования, посредством языковых ресурсов. Скорее, его следовало бы отнести к «конструктивному реализму» [Лекторский, 2009], согласно которому реальность рождается в результате активного взаимодействия человека с миром. В рамках этого подхода Я, безусловно, является конструкцией, но это не означает его фиктивности: «Я во всех своих ипостасях, в том числе в качестве познающего, может быть понято как исключительно существующее в социальных коммуникациях, то есть как продукт и одновременно условие социально-культурного конструирования. Это не означает, что субъективная реальность и Я фиктивны. Нет, они вполне реальны, однако это особый тип реальности» [Лекторский, 2009, с. 35].
Для исследователей нарратива предположение о конститутивном характере дискурса дополняется пониманием наррации как особой практики, с помощью которой идентичность меняется и артикулируется. Считается, что процесс нарративного конструирования идентичности подобен более общему представлению о дискурсивном конструировании. Идентичность мыслится как осуществляемая в дискурсе, а не существующая до него, как подвижная, а не фиксированная, как культурно-историческая, сконструированная в интеракциях, как непрерывно меняющаяся и противоречивая. Рассказывая истории, мы конфигурируем «Я-каким-я-мог-бы-быть», и, так как мы можем рассказывать различные истории, мы можем конструировать различные версии Я.
Нарративы обладают рядом особенностей, позволяющих считать их уникальным материалом для изучения идентичности. И, прежде всего, речь идет об «исключительной способности нарратива представлять темпоральную природу человеческого опыта и, таким образом, ухватывать непрерывное, но развивающееся Я» [Gone et al., 1999, p. 384]. Из всех дискурсивно-ориентированных теорий конструирования идентичности только нарративный подход может всерьез рассматривать развитие и трансформацию идентичности во времени, притом что преемственность и связность Я остается одной из самых важных ее функций: «Я сегодня тот же, который был вчера, и, несмотря на возможные изменения, я сохраняю тождественность самому себе. Это не означает, что я всегда одинаковый, это означает только, что я один и тот же человек. Это означает, в частности, что я несу ответственность за свои слова, что я могу планировать что-то, что я могу проектировать себя в будущем и брать на себя какие-то обязательства» [Леонтьев, 2009].
Брокмайер убежден, что конструирование человеческой идентичности может рассматриваться как конструирование особого модуса времени. Он предлагает назвать его «автобиографическим временем» [Brockmeier, 2001]. Любой нарратив отражает процесс, который связывает начало с концом, однако при этом он имеет очень сложную временную организацию. Жизненная история – это «история, которая одновременно рассказывает и о прошлом, и о настоящем, и о процессе, в котором они соединяются; но она также и о будущем, о будущем, которое начинается в тот момент, когда рассказывается история. Речь идет и об одновременности, и, таким образом, о смешивании всех трех модусов или модальностей человеческого времени. Довольно странно, что, когда мы слушаем или читаем жизненный нарратив, мы обычно не осознаем сложность этой конструкции» [Brockmeier, 2001]. «Здесь и сейчас» нарративного речевого акта, рассказывания истории кому-то является отправной точкой любой истории. Тем не менее в хронологическом порядке большинства жизненных историй это конец процесса, линии собственной жизни, которая началась когда-то в прошлом.
Таким образом, возникают две темпоральные перспективы: одна, которая открывается из настоящего в прошлое, делая это таким образом, что в конце настоящее входит в когеренцию с другой перспективой, которая, в свою очередь, представляет жизненный путь как спроектированный вдоль (более или менее) хронологического измерения. При этом возникает удивительный эффект: последовательность нарративных событий предстает в качестве развития движения к определенной цели, – как если бы в конце находилась цель, которой с самого начала надо было достичь. Брокмайер называет этот эффект ретроспективной телеологией.
Чувствительность нарратива к временному модусу человеческого существования позволяет ухватывать процессы, посредством которых происходит перестройка идентичности. Дж.Брунер предложил следующую схему нарратива (которая включает акт наррации): «Нарратор, находящийся «здесь и сейчас», берет на себя задачу описать действия героя «там и тогда», героя, который носит его имя. Он должен привести в соответствие прошлое с настоящим таким образом, чтобы герой и нарратор в конце концов слились и стали одним человеком, с единым сознанием. Таким образом, для того чтобы привести героя в точку, где он становится нарратором, нужна теория роста или по крайней мере трансформации» [Bruner, 1991].
Используя канонические, культурно заданные лингвистические формы, нарратив, тем не менее, никогда не повествует о типичных событиях. Как одна из его основных особенностей (позволяющих отличать нарратив от других дискурсивных форм) отмечается «проблемность» нарратива – центральным в структуре сюжета является событие, нарушающее привычный ход вещей. Для психологической структуры это означает, что герой переживает кризис, после которого его «мир» (включая собственную идентичность) должен быть выстроен по новым правилам, в соответствии с новыми ориентирами.
Надо отметить, что большинство работ по изучению нарратива имеют дело с историями об «экстремальном опыте». Например, в работе Лабова и Валецки [Labov, Waletzky, 1967] нарратив «извлекался» вопросом об опыте переживания угрозы жизни. Существует большое количество исследований рассказов пациентов, переживших опасную болезнь, например работа К.Лангиллер [Langellier, 2001], изучающая нарративы женщин, рассказанные через 10 лет после удаления рака груди. В методике «Интервью о жизненной истории» Г.Макадамса (McAdams D.) используются вопросы о пиковых (самых счастливых или самых тяжелых) событиях жизни (подробнее см. [Барский, Грицук, 2010]). В таких рассказах люди часто характеризуют себя как ставших совершенно другими. В их историях обязательно присутствует кризисный поворотный момент. Под «поворотными моментами» принято понимать те эпизоды, в которых рассказчик объясняет перелом в убеждениях, верованиях, мышлении героя. Такие моменты можно считать отличительной чертой нарративов. Ф.Анкерсмит [Анкерсмит, 2007] трактует их как описания «травмы идентичности». Таким образом, структура истории, разделяющая жизнь на «до» и «после», позволяет обратить внимание на момент трансформации.
На первый взгляд, автобиографические нарративы должны рассказывать только о прошлом, они фокусируются на людях, их намерениях и на том, как эти намерения привели к различным видам активности. Задача нарратива восстановить временной порядок, цепочку событий, из которых состоит жизнь. Однако Дж.Брунер [Bruner, 1991] приводит данные собственных подсчетов: он не нашел ни одного автобиографического нарратива, где глаголы прошедшего времени составляли бы более 70% от всех использованных глаголов. Очевидно, что Я-нарративы – это повествования не только о прошлом, но и в значительной степени – о настоящем. Однако еще более важно то, что «настоящее» нарративов связано с осмыслением рассказанного, с ответами на вопросы «Почему об этом стоит рассказывать? Что в этом интересного?».
Поскольку нарратив связан с оценочной интерпретацией прошлого, в нем обязательно содержатся нормативные идеи о том, что можно считать правильным, ценным, о том, что Фриман и Брокмайер [Freeman, Brockmeier, 2001] называют «представлениями о «хорошей жизни»». Таким образом, в нарративной конструкции идентичности есть не только психологическое, социальное, эстетическое, но и этическое измерение: «…Даже рассказ о бессмысленной и бесполезной жизни кого-то, кто совершает самоубийство, следует жанру сюжета о «полноценной жизни» (базируясь, в частности, на культурных представлениях о «хорошей жизни»), и он делает это таким образом, что идея бессмысленности предполагает идею осмысленности» [Brockmeier, 2001]. По мнению Т.Сарбина, «выживание в мире смыслов и значений было бы проблематичным, не будь у нас способности сочинять и интерпретировать истории о переплетениях человеческих жизней» [Сарбин, 2004, с. 13].
При рассмотрении проблем формирования идентичности неизбежно возникают вопросы моральных ориентаций рассказчика, так как «нарративная идентичность и моральная жизнь идут друг с другом рука об руку» [Atkins, 2004]. В 1986 году Теодор Сарбин обозначил одно из приоритетных направлений нарративного подхода: «Можно утверждать, что я-нарратив является центральным при исследовании добродетели (морального суждения или поведения), если подобное исследование основывается на положении, что актор обладает статусом субъекта (agent). Исследование такого рода представляет собой более осмысленный подход к дилеммам нравственного действия, чем популярные теории, основывающиеся на стадиях взросления, которые часто берутся в основу исследования» [Сарбин, 2004, с. 24].
Одна из первых попыток через нарратив обратиться к исследованию развития и трансформации нравственных норм принадлежит А.Макинтайру [2000]. В истории науки можно выделить два антиномичных представления о морали: как о системе вмененных человеку норм и ценностей либо как о сфере индивидуального самополагания личности. На уровне психологии в первом случае моральное развитие понимается как процесс приспособления ребенка к требованиям общества, во втором – его изучение попадает в контекст проблем становления индивидуальности. Таким образом, возникает традиционная дилемма, при которой происходит «редукция либо к автономному субъекту…, либо к культуре как двигателю пассивного индивида» [Rasmussen, 1999]. Преодоление этой проблематичной двойственности некоторые авторы видят в моделях со-конструирования мира субъектом и культурой, предполагая, что этот процесс осуществляется, в основном, посредством коммуникативной практики типа нарративной [Gone et al., 1999].
Отличительная черта теории нарративной идентичности заключается в том, что истории, которые мы рассказываем о самих себе, находятся во взаимоотношениях с более широким культурным контекстом (с метанарративами, сюжетами, характерными для определенной культуры, способами интерпретации и т.д.). Любому повествованию свойственна интертекстуальность (то есть каждый текст является производным от какого-то текста и отсылает к будущим текстам). Каждая жизненная история, таким образом, является встроенной в контекст интеракций и коммуникаций, что позволяет удерживать в одном поле зрения «историю реальной жизни вместе с историями о возможной жизни, а также бесчисленное множество их комбинаций. Как следствие, жизнь нарратива можно рассматривать открытой, не имеющей конца» [Brockmeier, Carbaugh, 2001, p. 7]. Любая конкретная история создается с учетом присущих определенной культуре ожиданий типичных сюжетов, мотивов, причин и следствий. Такая связь между личной историей и циркулирующими в культуре нормами построения повествования позволяет нарративу быть связующим звеном между культурой и индивидуальным сознанием.
Дж.Брунер выделяет две функции автобиографического нарратива. С одной стороны, рассказывая о себе, мы хотим представить себя другим (и самим себе) как типичных, характерных, «культурно подтвержденных», а значит, понятных представителей общества. Но в таком случае мы просто являемся зеркалами культуры, и говорить об индивидуальности Я бессмысленно. Для обеспечения индивидуальности (по крайней мере в западной культуре) нарратив фиксируется на том, что является исключительным, нарушающим канонические представления «народной психологии». Таким образом, к нарративу изначально предъявляется «требование рассказать что-нибудь интересное – то есть историю, в которой распознается каноническое и неканоническое. Делает историю интересной то, что идет вразрез с ожидаемым или приводит к результату, который идет вразрез с ожидаемым» [Bruner, 1991]. По мнению ряда ученых [Gone et al., 1999; Rasmussen, 1999; и др.] нарратив представляет собой материал, в котором сохраняется напряженность между действиями индивидуального субъекта и культурной традицией, что позволяет обратиться к нему в поисках модели, описывающей их отношения. Во многих Я-нарративах содержится переход от личного, приватного к дискуссионному дискурсу, касающемуся социальных проблем. И это понятно, если признать, что нарративы являются не только рефлексивным самоописанием, но и средством форматирования социальной жизни.
При всем многообразии нарративных исследований большинство ученых согласны с тем, что нарратив, обладающий чувствительностью ко времени, интертекстуальными отношениями с более широким культурным дискурсом и сохраняющий напряженность отношений между традицией и действиями индивидуального субъекта, является уникальным материалом для изучения конструирования Я в культурном контексте во времени и пространстве, так как «идея человеческой идентичности – можно даже сказать, сама возможность человеческой идентичности – связана с понятием нарратива и нарративности» [Brockmeier, Carbaugh, 2001, p. 15].
Андреева Г.М. Презентации идентичности в контексте взаимодействия. Психологические исследования, 2012, 5(26), 1. http://psystudy.ru
Анкерсмит Ф.Р. [Ankersmit F.R.] Возвышенный исторический опыт. М.: Европа, 2007.
Барский Ф.И. Личность как черты и как нарратив: возможности уровневых моделей индивидуальности. Методология и история психологии, 2008, 3(3), 93–105.
Барский Ф.И., Грицук А.Г. «Интервью о жизненной истории» Д.Макадамса как метод исследования нарративной идентичности. Журнал практического психолога, 2010, No. 5, 158–204.
Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского. Киев: Next, 1994.
Бергер П., Лукман Т. [Berger P.L., Luckmann T.] Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания. М.: Academia-Центр, 1995.
Брокмайер И., Харре Р. [Brockmeier J., Harré R.] Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы. Вопросы философии, 2000, No. 3, 29–42.
Брунер Дж. [Bruner J.] Жизнь как нарратив. Постнеклассическая психология, 2005, 1(2), 9–29.
Выготский Л.С. История развития высших психических функций. В кн.: Собр. соч. М.: Педагогика, 1983. Т. 3.
Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: Прогресс, 1988.
Джерджен К.Дж. [Gergen K.J.] Движение социального конструкционизма в современной психологии. В кн.: Социальная психология. Саморефлексия маргинальности. М.: ИНИОН РАН, 1995. С. 51–73.
Лекторский В.А. Реализм, антиреализм, конструктивизм и конструктивный реализм в современной эпистемологии и науке. В кн.: Конструктивистский подход в эпистемологии и науках о человеке. М.: Канон+, 2009. С. 5–40.
Леонтьев Д.А. Лабиринт идентичностей: не человек для идентичности, а идентичность для человека. Философские науки, 2009, No. 10, 5–10.
Макинтайр А. [MacIntyre A.Ch.] После добродетели. М.: Деловая книга, 2000.
Пропп В. Морфология волшебной сказки. М.: Наука, 1969.
Рикер П. [Ricœur P.] Время и рассказ. М.: Университетская книга, 1998.
Сарбин Т.Р. Нарратив как базовая метафора для психологии. Постнеклассическая психология, 2004, No. 1, 6–28.
Труфанова Е.О. Человек в лабиринте идентичностей. Вопросы философии, 2010, No. 2, 13–22.
Херманс Г. [Hermans H.] Личность как мотивированный рассказчик: теория валюации и метод самоконфронтации. Постнеклассическая психология. Социальный конструкционизм и нарративный подход, 2007, 1(3), 7–53.
Atkins K.M. Narrative identity, practical identity and ethical subjectivity. Continental philosophy review, 2004, 37(3), 341–366.
Bal M. Narratology: introduction to the theory of narrative. Toronto: University of Toronto Press, 1997.
Bethan B., Stokoe E. Discourse and identity. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006.
Brockmeier J. From the end to the beginning. Retrospective teleology in autobiography. In: J. Brockmeier, D. Carbaugh (Eds.), Narrative and identity: studies in autobiography, self, and culture. Amsterdam: John Benjamins, 2001. pp. 247–282.
Brockmeier J., Carbaugh D. (Eds.). Narrative and identity. In: Narrative and identity: studies in autobiography, self, and culture. Amsterdam: John Benjamins, 2001. pp. 39–58.
Bruner J. Self-making and world-making. Journal of Aesthetic Education, 1991, 25(1), 67–78.
Carr D. Time, narrative, and history. Bloomington: Indiana University Press, 1986.
Feldman C.F. Narratives of national identity as group narratives. Patterns of interpretive cognition. In: J. Brockmeier, D. Carbaugh (Eds.), Narrative and identity: studies in autobiography, self, and culture. Amsterdam: John Benjamins, 2001. pp. 129–144.
Freeman M., Brockmeier J. Narrative integrity. Autobiographical identity and the meaning of the «good life». In: J. Brockmeier, D. Carbaugh (Eds.), Narrative and identity: studies in autobiography, self, and culture. Amsterdam: John Benjamins, 2001. pp. 75–103.
Giddens A. Modernity and self-identity: self and society in the late modern age. Cambridge: Polity Press, 1991.
Gone J.P., Miller P.J., Rappaport J. Conceptual self as normatively oriented: the suitability of past personal narrative for the study of cultural identity. Culture and Psychology, 1999, 5(4), 371–398.
Harré R. Metaphysics and narrative. Singularities and multiplicities of self. In: J. Brockmeier, D. Carbaugh (Eds.), Narrative and identity: studies in autobiography, self, and culture. Amsterdam: John Benjamins, 2001. pp. 59–73.
Harré R., Langenhove L. Positioning theory. Oxford: Blackwell, 1999.
Harré R., Gillett G. The discursive mind. London: Sage, 1994.
Hollway W., Jefferson T. Panic and perjury: a psychosocial exploration of agency. British Journal of Social Psychology, 2005, 44(2), 147–163.
Labov W., Waletzky J. Narrative analysis: oral versions of personal experience. In: J. Helm (Ed.), Essays on the verbal and visual arts. Seattle, WA: University of Washington Press, 1967. pp. 12–44.
Langellier K.M. “You’re marked”: breast cancer, tattoo, and the narrative performance of identity’. In: J. Brockmeier, D. Carbaugh (Eds.), Narrative and identity: studies in autobiography, self, and culture. Amsterdam: John Benjamins, 2001. pp. 145–184.
Lifton R.J. The protean self. Human resilience in an age of fragmentation. New York: Basic Books, 1993.
Rasmussen S. Culture, personhood and narrative: The problem of norms and agency. Culture and Personality, 1999, 5(4), 399–412.
Schiff B. The promise (and challenge) of an innovative narrative psychology. Narrative Inquiry, 2006, 16(1), 19–27.
Taylor C. Sources of the self: the making of modern identity. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989.
Поступила в редакцию 3 октября 2013 г. Дата публикации: 22 февраля 2014 г.
Сведения об авторе
Турушева Юлия Борисовна. Аспирант, лаборатория психологии подростка, Психологический институт Российской академии образования, ул. Моховая, д. 9, стр. 4, 125009 Москва, Россия.
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.